|
|||||
|
| |||||
А. Э. Ментовский, эксперт 1 категории ЭКО МУ МВД России «Красноярское» (г. Красноярск)
Отмечается различие юридической и криминалистической классификации оружия и боеприпасов. Рассматривается допустимость и пределы использования юридической терминологии при криминалистическом исследовании оружия и боеприпасов. На примере исследования «списанного оружия» доказывается недопустимость отказа от решения поставленных на разрешение судебно-баллистической экспертизы классификационных вопросов, обусловленного тем, что ответ на них имеет юридический характер.
Ключевые слова: судебно-баллистическая экспертиза; криминалистическая классификация оружия; неисправное и непригодное для производства выстрелов огнестрельное оружие; списанное оружие.
М 50 ББК 67.53 УДК 343.983 ГРНТИ 10.85.31 Код ВАК 12.00.12
On the admissibility and limits of the use of the legal classification of weapons and ammunition in the production of forensic ballistics examinations and studies (in the order of discussion) A. E. Mentovskij, expert of the 1 category ECO MU of the Ministry of Internal Affairs of Russia «Krasnoyarskoe» (city Krasnoyarsk)
There is a difference between the legal and criminalistic classification of weapons and ammunition. The admissibility and limits of the use of legal terminology in the forensic investigation of weapons and ammunition are considered. Using the example of the study of "decommissioned weapons", it is proved that it is unacceptable to refuse to resolve classification issues raised for the resolution of a forensic ballistic examination, due to the fact that the answer to them is of a legal nature.
Keywords: forensic ballistics examination; criminalistic classification of weapons; defective and unusable firearms; decommissioned weapons. _____________________________________
1. В феврале 2022 года сотрудникам экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ была рекомендована к использованию «Методика установления наименования патрона, определения оружия, для которого он предназначен, и пригодности патрона для производства выстрела», разработанная ЭКЦ МВД России совместно с ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России [1]. Использование этой методики прекращает экспертную дискуссию об отнесении патронов к категории боеприпасов. Но так как она длилась более трёх десятилетий, стоит обратиться к её истории. Вплоть до конца 50-х годов прошлого века понятие «боевые припасы» воспринималось однозначно: любое огнестрельное оружие, в том числе охотничье и даже «дамское», может быть использовано для поражения живой силы противника. В соответствии с этим пониманием все предназначенные для поражения цели унитарные патроны стрелкового оружия, в том числе гладкоствольного охотничьего и малокалиберного нарезного, а также пороха, метаемое снаряжение и другие элементы унитарных патронов считались боеприпасами. Объектом судебной экспертизы «боеприпасы» стали в 1960 году, после принятия Уголовного Кодекса РСФСР, в ст. 218 которого впервые предусматривалось уголовная ответственность за: «ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов или взрывчатых веществ без соответствующего разрешения». Применительно к решению вставшей перед судебно-баллистической экспертизой задачи, после непродолжительной дискуссии было дано определение категории боеприпасов, в соответствии с которым к ним относятся только готовые к применению унитарные патроны стрелкового оружия промышленного и самодельного изготовления снаряжённые пулей, дробью или картечью. Пули, гильзы, другие элементы снаряжения этих патронов, а также не имеющие метаемого снаряжения патроны в категорию боеприпасов не входят. Такая позиция была полностью воспринята правоприменителями и никем не оспаривалась. Но в 1987 году автор нескольких методик судебно-баллистических исследований А. И. Устинов заявил, что к категории боеприпасов должны относиться только предназначенные для стрельбы из «военного» оружия патроны. Обоснование своей позиции А. И. Устинов нашёл в ГОСТ В 20313-74 «Боеприпасы. Основные понятия. Термины и определения», в котором боеприпасы определяются как «изделия военной техники». Это и привело авторитетного специалиста в области судебной баллистики к мысли о том, что «охотничьи», «спортивные» и «самодельные» патроны боевыми припасами не являются. В экспертной и правоприменительной практике особое мнение А. И. Устинова переворота не произвело. «Однако, оставаясь в теоретическом поле, спорное мнение А. Устинова играло позитивную роль, ибо давало поводы для дискуссии, без которой наука не может развиваться» [2] и 1987 год может считаться датой начала дискуссии, завершённой только в 2021 году. В 1991 году был введён в действие ГОСТ СССР «Оружие стрелковое. Термины и определения», в котором патрон ствольного оружия, предназначенного для «метания пули, дроби или картечи», определялся как «боеприпас стрелкового оружия». В 1993 году был принят закон РФ «Об оружии», закрепивший юридическое определение термина «боеприпасы», к которым относились «устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида». На фоне этих нормативных новаций появление методики исследования, в соответствии с которой к категории боеприпасов относились только патроны состоящего или когда-либо состоявшего на вооружении армии какого-нибудь государства огнестрельного оружия, разработанной в 1997 году РФЦСЭ при Минюсте России, одним из ведущих сотрудников которого был А. И. Устинов, было довольно неожиданным. С этого момента при исследовании однотипных патронов эксперты МВД и Минюста зачастую приходили к различным выводам, так как эксперты МВД при отнесении патрона к категории боеприпасов ориентировались на криминалистическое определение этого понятия, а экспертам Минюста предписывалось: «уяснить содержание понятия множества «боеприпасы», даваемого ГОСТ В 20313 с дополнениями и изменениями от 23.03.1982 г. № 1178» [3, с. 78]. И так как вопрос об отнесении к боеприпасам охотничьих и малокалиберных патронов перешёл из теоретического поля в практическую плоскость, дискуссия обрела второе дыхание. Началась она с филологического толкования самого термина «боеприпас». Дискуссанты жонглировали определениями боевых припасов в энциклопедических, толковых словарях, справочниках и ГОСТах и придумывали специальные термины для «невоенных» патронов. А. И. Устинов указал на то, что с 1996 года понятия «боеприпас» и «патрон» в ФЗ «Об оружии» разделены, и предположил, что именно это заставляет правоприменителей снова и снова задавать экспертам вопрос: «Являются ли предоставленные патроны боеприпасами?». После этого участники дискуссии обратили своё внимание на законодательство. Часть дискуссантов утверждала, что «гносеологическое, логическое и юридическое толкование диспозиций статьи 222 УК РФ свидетельствует о том, что к категории боеприпасов должны быть отнесены любые патроны … предназначенные к огнестрельному оружию для поражению цели» [4, с. 248-249]. Противная сторона решительно настаивала на том, что «содержание законов это безусловно юридические сведения (знания) и, следовательно, их использование прерогатива юристов: следователей и судей», а решение самого вопроса «… заключается в выяснении для стрельбы из какого оружия предназначен исследуемый патрон. Если для стрельбы из военного оружия – патрон относится к боеприпасам. Во всех остальных случаях патрон к боеприпасам не принадлежит» [5, с. 256]. Законодателем вносились многочисленные поправки в закон «Об оружии» и в УК РФ. Не обращая внимания на новации, эксперты Минюста использовали свою ведомственную методику, в соответствии с которой патроны «гражданского» оружия в категорию боеприпасов не входили, а эксперты МВД – свою, согласно которой к боеприпасам относились предназначенные для поражения цели патроны любого оружия. Участники дискуссии стали находить свои аргументы уже в текстах законов, определяющих положение, права и обязанности экспертов в правоприменительной деятельности. И обнаружили, что при положительном ответе на вопрос «Является ли предоставленный патрон боеприпасом?» «эксперт фактически решает вопрос о виновности лица, у которого этот патрон был изъят» [6, с. 310]. После того как в поисках научной истины дискуссанты-оппоненты вышли сами на себя, созрело решение о необходимости прекращения дискуссии. Это нашло отражение в новой, совместно разработанной экспертам обоих ведомств методике, в основе которой лежит утверждение, что «вопрос об отнесении патрона к боеприпасам имеет не технический, а юридический характер … постановка такого вопроса перед экспертом некорректна, и ответ на него выходит за пределы его компетенции» [1, с. 6]. Ранее использовавшаяся экспертами МВД методика на основании установленного в ходе исследования «вида, типа и образца патрона, его штатности» решала вопрос об отнесении патрона к категории боеприпасов. В новой методике на установлении «штатности» исследование заканчивается, так как для отнесения патрона к боеприпасам «специальных знаний не требуется» [1, с. 6]. И ведь это действительно так. Ответ на вопрос «Какие патроны являются боеприпасами?» задолго до начала дискуссии был известен военным, оружейникам, охотникам, стрелкам-спортсменам и многим другим лицам, не обладающим специальными знаниями в области судебной баллистики. А тем субъектам правоприменительной деятельности, которым ответ на этот вопрос известен не был, в 1974 году Верховным судом СССР[1] было разъяснено, что ношение, хранение, приобретение и изготовление или сбыт боевых припасов к гладкоствольному охотничьему оружию не образуют состава преступления не потому, что они не относятся к боеприпасам, а потому, что законом не предусмотрена уголовная ответственность за незаконный оборот гладкоствольного охотничьего оружия, а, следовательно, и боеприпасов к нему, то есть «по смыслу закона». В 1996 году, обобщая судебную практику, Верховный Суд уже Российской Федерации указал, что к категории боевых припасов, являющихся предметом преступления по ст. 218 и 219 УК РСФСР, относятся «все виды патронов заводского и самодельного изготовления к различному стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра, за исключением … патронов, не имеющих поражающего элемента (снаряда – пули, картечи, дроби и т.п.)»[2]. Исключение же патронов гладкоствольного охотничьего оружия из числа предметов преступления обусловлено всё тем же «смыслом закона», который в том же году изменился, и указанное исключение на несколько лет исчезло. Позднее, в 2002 году, рассматривая судебную практику уже по ст. 222-226 УК РФ, Верховный Суд вновь указал, что к боеприпасами относятся только предназначенные для поражения цели патроны огнестрельного оружия, а в 2007 году дополнительно разъяснил, что «гражданское гладкоствольное оружие … и боеприпасы к нему исключены из круга предметов преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена лишь ст. 222 УК РФ. Статьи 223-226 УК РФ такого исключения не содержат»[3]. Кроме того, с 2021 года в Уголовном Кодексе РФ прямо указано, что «под боеприпасами следует понимать предназначенные для поражения цели … патроны … независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом»[4]. Видимо к этому времени законодатель тоже пришёл к выводу о необходимости прекращения тридцатипятилетней дискуссии и реализовал пожелание А. И. Устинова «… чётко указать, незаконное владение какими предметами образует состав преступления». Однако авторы новой методики решили дискуссионный вопрос другим способом. Они просто отказались называть боеприпасами любые патроны. Так или иначе, дискуссия, научный аспект которой потерялся в клубке личных и ведомственных амбиций, приказным порядком прекращена. Эксперты РФЦСЭ более не настаивают на том, что к боеприпасам относятся только «патроны с неэкспансивной пулей к военному стрелковому огнестрельному оружию», а эксперты МВД перестают относить к боеприпасам не только эти, но и все остальные патроны. При этом создаётся впечатление, что при получении «специальных знаний» в области судебной баллистики эксперты не только утрачивают знания «общеизвестные», но и теряют способность читать и «уяснять» нормативно-правовые документы. Иначе как объяснить отказ от отнесения предназначенных для поражения цели патронов огнестрельного оружия к категории боеприпасов после прямого внесения таких патронов в эту категорию Уголовным Кодексом, учитывая, что именно для реализации целей уголовного законодательства судебно-баллистические экспертизы назначаются и производятся? И при всём уважении к авторам введённой в практику методики исследования патронов нельзя не заметить, что отметив нерациональный подход разработчиков к формированию сущности ранее применявшихся методик исследования патронов [6, с. 309], они сами прошли в этом же направлении ещё дальше. И теперь, опираясь на созданную ими методику, некоторые эксперты отказываются отвечать даже на вопрос, относятся ли к категории боеприпасов предоставленные на экспертизу отдельные элементы и компоненты снаряжения патронов – пули и гильзы, стреляные и нет. А иногда «юридическим» становится даже ответ на вопрос об отнесении к боеприпасам пуль пневматического оружия. Всё вышеизложенное является сугубо субъективным мнением автора о начале, ходе и завершении дискуссии о боеприпасах в судебной экспертизе. 2. В 2021 году в экспертно-криминалистические подразделения МВД России поступило информационное письмо ЭКЦ МВД России, целью которого является «формирование научно обоснованного подхода к исследованию списанного и деактивированного оружия … и предупреждение экспертных ошибок» [7, с. 2]. В нём не рекомендуется отражение экспертом в выводах формулировок, что объект исследования является списанным оружием определённой модели, так как «в вопросе классификации огнестрельного оружия, имеющего технические изменения, доминирует юридический аспект». Именно в этом документе экспертам МВД России впервые было предложено отказываться от ответа на поставленный перед ними вопрос «Чем является представленный на экспертизу объект?», в связи с тем, что этот вопрос «имеет не технический, а юридический характер», и ответ на него экспертом в рамках криминалистического исследования выходит за пределы его компетенции. Исследование промышленно изготовленного огнестрельного оружия, так же как и других конструктивно или по внешнему виду сходных с таким оружием изделий, выполняется в соответствии с утверждённой в 2000 году методикой. Вероятно, именно её безымянные авторы информационного письма считают недостаточно научно обоснованной, хотя их рекомендации основываются на положении этой методики, в соответствии с которым: «… не имеет значения факт возможной неисправности и непригодности для стрельбы огнестрельного оружия промышленного производства. Целевое назначение объекта не изменится от его состояния» [8, примечание к п. 3.2]. В соответствии с определением термина «списанное оружие» в ФЗ «Об оружии» к таковому относится «огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с использованием его основных частей …»[5]. Авторы письма указывают на то, что «…дифференцировать способ внесения технических изменений, в результате которых оружие приводится в неисправное и непригодное для стрельбы состояние, как правило, не представляется возможным – производитель списанного оружия и подпольная мастерская в процессе деактивации оружия пользуются аналогичным станочным оборудованием и инструментами». Также они отмечают, что маркировочные обозначения на списанном оружии могут быть удалены, либо нанесены в той же подпольной мастерской «с подражанием оригинальным маркировочным обозначениям», а определение подлинности маркировочных обозначений не входит в компетенцию эксперта-баллиста. На этих основаниях авторы утверждают, что «с криминалистической точки зрения в рамках баллистического исследования не представляется возможным установить, относится ли объект исследования к категории списанного оружия …» и поэтому «… для правильной классификации подобных объектов исследования необходимо установить, имеет ли он сертификат соответствия». Из этого вытекает, что основным признаком списанного оружия является «сертификат соответствия», доказательством чего является тот факт, что в экспертной практике встречаются объекты имеющие сертификат соответствия «списанного оружия», однако не соответствующие Криминалистическим требованиям к таковому. Поэтому при судебно-баллистическом исследовании списанного оружия оно, по мнению авторов рассматриваемого документа, должно классифицироваться только как огнестрельное оружие промышленного производства, неисправное и непригодное для производства выстрелов. Однако давайте ещё раз обратимся к действующей методике. «Конструктивные признаки материальной части объекта характеризуют его целевое назначение» [8, п. 3.1]. «Огнестрельное оружие – изделия, конструктивно предназначенные для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счёт энергии сгорания метательного заряда» [8, п. 3]. «Если объект не предназначен для поражения цели, то даже при наличии у него всех конструктивных элементов, свойственных огнестрельному оружию, такой объект к огнестрельному оружию не принадлежит…» [8, п. 6.8], и в случае наличия у промышленно изготовленного объекта «только внешнего сходства с огнестрельным оружием (копии, реплики, макеты, игрушки и т.д.) … установления … специального назначения объекта, т. е. отсутствия у него предназначенности для поражения цели, … делается вывод о том, что представленный объект огнестрельным оружием не является» [8, п. 6.5]. Теперь вернёмся к ФЗ «Об оружии», в котором в ст. 1 определяется целевое назначение списанного оружия: «… использование при осуществлении культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового действия (охолощённое оружие) или без возможности имитации выстрела (учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие)». «Списанное оружие» дважды проходит этапы промышленного изготовления – при изготовлении огнестрельного оружия и при внесении в каждую его основную часть технических изменений, исключающих возможность производства выстрела из него. И по окончании второго этапа это промышленно изготовленное изделие приобретает новое целевое назначение, конструктивные признаки и маркировочные обозначения, отличающие его от огнестрельного оружия. В соответствии с методикой установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию «списанное оружие» относится к «предметам промышленного производства … специального назначения» [8, п. 1]. Поэтому именно отнесение «списанного оружия» к категории огнестрельного является той самой «экспертной ошибкой», к предупреждению которой призывают авторы письма. Неисправным и непригодным для стрельбы может быть только промышленно изготовленное «огнестрельное оружие». Промышленно изготовленное изделие, входящее в категорию «списанное оружие» не является неисправным и непригодным для стрельбы огнестрельным оружием, так как не просто непригодно для производства выстрелов боеприпасами, а конструктивно не предназначено для поражения цели и производства выстрелов. Действующими Криминалистическими требованиями его конструкцией вообще должна исключаться возможность истечения «газопороховой струи из дульного среза ствола»[6]. Огнестрельным оружием, неисправным и непригодным для стрельбы, может быть только дезактивированное «самодельным» способом промышленно изготовленное огнестрельное оружие, и к таковому должно быть отнесено даже оружие, в основные части которого внесены соответствующие криминалистическим требованиям технические изменения «исключающие возможность производства выстрелов», но отсутствует маркировка, предписанная для «списанного оружия». Если же маркировочные обозначения исследуемого объекта промышленного производства соответствуют списанному оружию и в процессе исследования не обнаружено материально-фиксированных признаков, дающих основания для вывода о «самодельном» способе внесения в него технических изменений, то в соответствии с действующей методикой эксперт-баллист имеет все основания для отнесения его к категории «списанное оружие». И хотя определение подлинности маркировочных обозначений не входит в компетенцию эксперта-баллиста, их наличие, содержание и способ нанесения на конкретном исследуемом объекте, в совокупности с технологическими (применёнными для изготовления деталей материалами, способами их обработки, сборки и пр.) и конструктивно-техническими (соответствие конструкции оружия и его основных частей определённой модели) признаками дают основания для отнесения исследуемого объекта к категории «промышленно изготовленного», каковым только и может быть списанное оружие. Если маркировочные обозначения, свидетельствующие о внесении технических изменений, ставящих исследуемый объект в ряд «списанного оружия», удалены, то именно факт удаления маркировочных обозначений на «списанном оружии», установленный при исследовании модели, и должен быть отражён в заключении эксперта. Исключить исследуемый объект из категории «списанного оружия», смогут только эксперты другой специализации, обладающие специальными познаниями в вопросах определения подлинности маркировочных обозначений и способе выполнения технических изменений, которыми будет установлено, что маркировочные обозначения выполнены всего лишь с «подражанием оригинальным маркировочным обозначениям» или что технические изменения внесены не изготовителем данной модели списанного оружия. А если при исследовании «списанного оружия» будет установлено, что в результате изменения конструкции его основных частей оно вновь стало пригодно для производства выстрелов боеприпасами, то в соответствии действующей методикой эксперт-баллист должен отнести данный объект к категории самодельно изготовленного огнестрельного оружия [8, п. 6.3]. Отказаться же от решения вопроса об отнесении (или не отнесении) исследуемого объекта промышленного производства к огнестрельному оружию можно только при невозможности установления его целевого назначения [8, п. 6.8]. Например, в случае, если на промышленно изготовленном огнестрельном оружии, «технически неисправном и непригодном для производства выстрелов», имеется клеймо международной комиссии по испытанию ручного огнестрельного оружия, свидетельствующее о легитимном внесении в его конструкцию «исключающих возможность производства выстрелов» технических изменений, но отсутствует маркировка, предусмотренная для списанного оружия. Производство судебно-баллистических экспертиз в соответствии с действующей методикой не может привести к возникновению «экспертных ошибок». Напротив, оно их исключает. 3. Ещё в одном документе, поступившем в экспертные подразделения органов внутренних дел в 2021 году, указывается, что «…криминалистической оценке сигнального, газового и других видов оружия промышленного производства в рамках производства баллистических экспертиз и исследований следует классифицировать указанные объекты строго в соответствии с их целевым назначением и на основании … данных сертификата соответствия, технической документации предприятия-изготовителя оружия, данных, содержащихся в информационно-справочных материалах…» [9, с. 4]. Однако авторы рассмотренного выше информационного письма обращают внимание на то, что «постановка перед экспертом вопросов о наличии или отсутствии сертификата соответствия на представленный объект исследования, а также установление соответствия между объектом исследования и сертификатом некорректно, а их разрешение не входит в компетенцию эксперта» [7, с. 4] и именно поэтому настаивают на невозможности установления является ли исследуемый объект списанным оружием. Отнести объект к категории «списанное оружия» могут только органы сертификации. В последнее время автор настоящей статьи неоднократно становился свидетелем того, как при исследовании других видов промышленно изготовленного «неогнестрельного» оружия эксперты испытывали затруднения в их классификации именно потому, что пытались делать это, обращаясь к сертификатам соответствия. Это происходит при исследовании пригодных для стрельбы патронами травматического действия пистолетов и револьверов, сертифицированных как газовое оружие, о чём экспертам становилось известно из имеющихся в их распоряжении информационно-справочных материалов. Но в юридической классификации отсутствует категория «газовое оружие, пригодное для стрельбы патронами травматического действия». Не помогает в решении классификационного вопроса и обращение к «документации предприятия-изготовителя». Например, при исследовании материальной части пистолета модели «Government» эксперт установил, что данный пистолет не предназначен для стрельбы боеприпасами, а маркировочное указание калибра «35 GR» указывало на то, что он предназначен для стрельбы пистолетными дробовыми патронами. Однако в установленной ФЗ «Об оружии» классификации дробовое короткоствольное гражданское оружие отсутствует, а служебным может быть только короткоствольное оружие отечественного производства. Полученный через систему Интерпола ответ изготовителя данной модели оружия, предприятия «Enser-Sportwaffen» (Германия), в котором было указано, что пистолеты данной модели предназначены для производства выстрелов именно дробовыми патронами указанного калибра[7], тоже не помог эксперту в решении классификационной задачи, и он пришёл к выводу о невозможности ответа на вопрос «Оружием какого вида?» является исследуемый пистолет. По нашему мнению установление целевого назначения исследуемого оружия на основании «данных сертификата соответствия», так же как и целом «предупреждение возникновения экспертных ошибок» ссылками на некий «юридический аспект» в вопросе классификации оружия, является шагом назад на пути формирования «научно обоснованного подхода» к криминалистическому исследованию оружия. Однако два шага в этом направлении уже сделаны. Введённые в заблуждение описанием технических признаков «списанного оружия» в его юридическом определении, авторы рассмотренного выше информационного письма запутались в установлении его целевого назначения. Стоит ли продолжать этот путь? Нужно ли судебным баллистам «абсолютизировать» юридическую классификацию оружия и боеприпасов? Ведь этого не делают даже сами законодатели.
4. Изданный Государственной Думой словарь используемых в законодательстве РФ юридических терминов содержит более 5 тысяч терминов, среди которых есть юридические определения понятий «сигнальное оружие», «газовое оружие», «списанное оружие» и т.д. В предисловии этого издания прямо указано, что все эти термины «не являются научными» [10, с. 3]. Криминалистикой к категории «оружие» относятся только конструктивно предназначенные «для поражения живой или иной цели», то есть пригодные для «причинения смерти человеку» предметы и устройства. Юридическое определение понятия «оружие» включает в эту категорию ещё и предназначенные «для подачи сигналов» устройства. А таковым является даже армейский «трёхцветный» фонарь КСФ, стоявший на вооружении СА. Криминалистическое определение огнестрельного оружия включает в себя указание на энергетические характеристики метаемого снаряда. Юридическое определение этого понятия – нет, поэтому в юридической классификации имеется «огнестрельное оружие ограниченного поражения». Этот бессмысленный с криминалистической точки зрения термин закрепился и в криминалистической практике, полностью заменив собой «травматическое оружие». Криминалистической классификацией к крупнокалиберному относится только нарезное оружие калибром более 9 мм. В ФЗ «Об оружии» классификация оружия весьма обширна, но в ней отсутствует понятие «крупнокалиберного» оружия, используемое в УК РФ, относящем к нему огнестрельное оружие калибром более 20 мм «за исключением гражданского огнестрельного оружия и служебного огнестрельного оружия». Совершенно очевидно, что относящиеся к оружию юридические термины являются только омонимами криминалистических и имеют другое содержание. Кроме того, в различных законодательных актах одни и те же юридические термины имеют различное значение. В соответствии с юридической классификацией к газовому оружию относятся «газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряжённые слезоточивыми или раздражающими веществами». Уголовное законодательство исключает из числа относящихся к газовому оружию предметов механические распылители, аэрозольные и «другие устройства». Оставшееся множество соответствует тому, что криминалистической классификации относится к газовому ствольному оружию. Сфера применения юридических терминов ограничена рамками законодательного акта, в котором раскрывается их содержание. Законом «Об оружии» из всего множества входящих в криминалистическую категорию «оружие» объектов выделяются только разрешённые или запрещённые к обороту на территории Российской Федерации изделия промышленного производства. А «оружейная» терминология, используемая в УК РФ, определяет круг объектов, являющихся предметами преступления. Нельзя не отметить и то, что значение юридических терминов по воле законодателя одномоментно изменяется, иногда на прямо противоположное. В 2021 г. в ФЗ «Об оружии» появилось юридическое определение терминов «гладкоствольное огнестрельное оружие» и «нарезное огнестрельное оружие», в соответствии с которым оружие с нарезкой «парадокс» относится к нарезному оружию. До этого момента этим же законом такое оружие, для стрельбы из которого применяются патроны гладкоствольного оружия, к таковому и относилось. Оружие со стволом типа «ланкастер» до 2021 г. сертифицировалось как гладкоствольное. Однако вышеуказанными определениями оно в «юридическом» смысле так же превратилось в нарезное. И все патроны к такому оружию, сертифицировавшиеся ранее как патроны гладкоствольного, превратились в патроны нарезного оружия. Первое юридическое определение «боеприпасов» в законе «Об оружии» от 1993 г. позволяло включить в эту категорию и сигнальные, и холостые, и газовые, и травматические патроны, и даже пули для пневматического оружия. И после вступления этого закона в действие в заключениях судебно-баллистических экспертиз стали появляться такие словосочетания как «боеприпасы газового оружия», «боеприпасы сигнального оружия», «боеприпасы газового оружия» и даже «боеприпасы пневматического оружия». Через несколько лет, в новом варианте закона «Об оружии», определение «боеприпасов» было изменено. И «боеприпасы пневматического оружия» из экспертной практики исчезли. Разумеется судебные эксперты в силу своего положения должны в полной мере владеть юридической оружейной терминологией. Но можно ли в криминалистических исследованиях использовать «ненаучные» и рандомно изменяемые понятия? Автор настоящей статьи считает, что стоящие перед судебно-баллистической экспертизой классификационные вопросы должны разрешаться на основании именно криминалистической классификации оружия и боеприпасов. Иной подход вступает в противоречие не только с принципами криминалистических исследований, но и с законодательством Российской Федерации. 5. В ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»[8] указывается, что данная деятельность основывается на принципах «независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники» (ст. 4). «Эксперт даёт заключение, основываясь на результатах проведённых исследований в соответствии со своими специальными знаниями» (ст. 7) и «… проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объёме. Заключение эксперта должно основываться… на базе общепринятых научных и практических данных» (ст. 8). Криминалистика – область научных знаний о механизме преступления, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Криминалистическая классификация – одно из средств практической деятельности в борьбе с преступностью [17, с. 5, 34]. Выполняющие баллистические экспертизы сотрудники государственных судебно-экспертных учреждений обладают специальными знаниями именно в области судебной баллистики, а не юриспруденции. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 2002 года № 5[9] указывается, что проведение судебной экспертизы необходимо «в тех случаях, когда для решения вопроса о том, являются ли оружием, боеприпасами … предметы, которые лицо незаконно носило, хранило, приобрело, изготовило, сбыло или похитило, требуются специальные познания» (п. 7) и она назначается «при возникновении трудностей в решении вопроса об отнесении конкретных образцов оружия, патронов и боеприпасов к тому или иному виду» (п. 10). В Постановлении Пленума ВС РФ от 21.12.2010 года № 28[10] указано, что назначение судебной экспертизы требуется в случаях, «когда для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных познаний в науке…» ( п. 1) и что «… вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за пределы его специальных знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния … как не входящих в его компетенцию, не допускается» (п. 4). Вышеизложенное означает, что задачей судебно-баллистической экспертизы является установление целевого назначения и способа изготовления предоставленных на экспертизу объектов путём исследования их материальной части. Судебный эксперт обязан дать заключение по поставленному вопросу именно в рамках своих специальных знаний, основывающихся не на законодательно закреплённых юридических конструкциях, а «на базе общепринятых научных и практических данных». Юридический характер имеют вопросы не об отнесении тех или иных объектов к категориям боеприпасов или оружия, а о возможности оборота конкретных образцов оружия, боеприпасов и патронов на территории РФ в соответствии с дефинициями ФЗ «Об оружии» и об отнесении этих объектов к предметам преступления в соответствии с положениями УК РФ. Отказываясь относить оружие или патроны к тому или иному виду по материализованному в их конструкции целевому назначению, судебный эксперт лишает органы правоприменения базы, на которой они смогут решить эти вопросы. В этом месте автор вновь не может удержаться от цитирования: «… распространено мнение, что эксперт признает или не признает представленный ему предмет холодным оружием. На самом деле в отличие от следователя и суда, которые действительно признают определенные факты, эксперт лишен функции признания и не имеет на нее права. При проведении рассматриваемого исследования он только определяет место представленного ему предмета в ряду других заранее известных изделий» [12, п. 2]. Это положение появилось в тексте «Методики испытания гражданского холодного, метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием на соответствие криминалистическим требованиям», утверждённой в 1998 г. и подтверждено в «Методике проведения сертификационных испытаний на соответствие криминалистическим требованиям и криминалистических исследований и экспертиз холодного и метательного оружия» от 2004 г., в соответствии с которой такие экспертизы и исследования проводятся и в настоящее время. При исследовании холодного и метательного оружия эксперт сопоставляет конструктивно-технические характеристики объекта с описанными в криминалистической литературе, ГОСТах и Криминалистических требованиях техническими характеристиками различных видов оружия и на основании установленных совпадений и различий делает вывод об отнесении его к тому или иному виду. И как показывает экспертная практика, при криминалистических исследованиях холодного оружия «юридический аспект» отнюдь не доминирует. Не требуется для отнесения объектов к ряду холодного оружия и наличие сертификата соответствия. Вышеприведённое положение методики исследования холодного оружия это совершенно исключает. Почему же не применить такой подход к исследованию не только холодного и метательного, но и огнестрельного оружия, а также к исследованию патронов и боеприпасов? Автор считает, что научно обоснованным является именно единый подход к исследованию всех объектов криминалистического оружиеведения. 6. Целевое назначение любого изделия промышленного изготовления определяется признаками его материальной части. Каждый из видов оружия имеет технические признаки, присущие только ему, либо отличающие его от оружия другого вида. Именно наличие этих признаков выявляется в процессе криминалистического исследования, после чего и даются ответы на вопросы «Каким способом изготовлен?» и «К какому типу и виду оружия относится?» предоставленный на экспертизу объект. Эксперт не «признаёт» исследуемые объекты боеприпасами, огнестрельным или холодным, гражданским или служебным, списанным или газовым холодным или метательным, заводским или самодельным оружием в «правовом смысле» - он по материально-фиксированным в конструкции объектов признакам устанавливает их групповую принадлежность, и применяет для этого криминалистическую классификацию. Если при исследовании материальной части эксперт приходит к выводу, что предоставленный на экспертизу объект по своей конструкции предназначен для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением (пулей, дробью, картечью), получающим направленное движения за счёт энергии порохового заряда (или иных газообразующих веществ), на расстоянии 1 метра от дульного среза, имеющим удельную кинетическую энергию не менее 0,5 Дж/мм, то он не «признаёт» его огнестрельным оружием, а лишь ставит его в один ряд с объектами, относящимся к криминалистической категории «огнестрельное оружие». Если при проведении исследования эксперт установит, что предоставленные объекты является устройствами «одноразового действия, предназначенные для непосредственного поражения цели … по своей конструкции и мощности заряда обеспечивающие реальную возможность поражения цели» [13, с. 77], то они занимает место в ряду объектов, относящихся к определённой криминалистикой категории «боеприпасы». Вышеизложенное относится и к судебно-баллистическому исследованию промышленно изготовленных изделий, имеющих только конструктивное сходство с огнестрельным оружием ограниченного поражения, списанного, сигнального и газового «оружия». Если при проведении судебно-баллистической экспертизы установлено, что в конструкцию основных частей огнестрельного оружия промышленным способом внесены дающие основание для отнесения его к ряду «списанного оружия» технические изменения и имеется соответствующая маркировка, то он лишь «…определяет место представленного ему предмета в ряду других заранее известных изделий». И если эксперт устанавливает, что не относящийся к огнестрельному оружию объект, например пистолет из приведённого выше примера, пригоден для производства выстрелов промышленно изготовленными патронами травматического действия, то он ставит его в ряд «огнестрельного оружия ограниченного поражения». Использование же юридической классификации таких объектов находится в исключительной компетенции органов предварительного расследования и суда. Именно они, основываясь на выводах судебной экспертизы о целевом назначении исследуемого объекта, учитывая наличие (или отсутствие) у этих объектов сертификата соответствия и соотнося эти сведения со «смыслом закона», принимают решение о признании этих объектов ««крупнокалиберным», «ограниченного поражения огнестрельным», «списанным», «газовым» оружием или «боеприпасами». Например, длинноствольное огнестрельное оружие в соответствии с классификацией ФЗ «Об оружии» может быть: служебным или гражданским; гражданское гладкоствольное длинноствольное оружие может быть: оружием самообороны, спортивным оружием, охотничьим оружием. Технические различия между охотничьим, спортивным и оружием самообороны законом и Криминалистическими требованиями не установлены. Служебное длинноствольное гладкоствольное оружие отличается от гражданского только следообразованием на гильзах. Поэтому при производстве судебных экспертиз такое оружие может быть классифицировано только как длинноствольное нарезное или длинноствольное огнестрельное оружие. Предоставленное на судебно-баллистическую экспертизу дульнозарядное огнестрельное оружие может быть гражданским оружием: имеющим культурную ценность; антикварным; копией антикварного оружия; репликой антикварного оружия. При этом установить, изготовлено ли оружие «до конца 1899 года» можно только по маркировочным обозначениям, а «определение подлинности маркировочных обозначений не входит в компетенцию эксперта-баллиста». Установление же «культурной ценности» вовсе выходит за рамки криминалистического исследования, в связи с чем при проведении судебно-баллистической экспертизы такое оружие может быть отнесено только к огнестрельному дульнозарядному. Тем не менее такая «ограниченная» криминалистическая классификация в большинстве случаев совершенно достаточна для решения задач уголовного судопроизводства. Только в отношении огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия и «крупнокалиберного» оружия для решения вопроса о том, является ли оно предметом преступления, органам расследования необходимо установить, проходило ли оно сертификацию в качестве гражданского или служебного. Однако судебный эксперт не может не владеть информацией о том, какими техническими признаками должны обладать объекты, относящееся к юридическим категориям «гражданское оружие», «служебное оружие», «боеприпас», «нарезное огнестрельное оружие», «крупнокалиберное огнестрельное оружие» и т.д., и в рамках судебно-баллистической экспертизы должен указать на наличие таких признаков в исследуемых объектах. Например, указать, что исследуемый объект имеет ствол типа «ланкастер» или «парадокс», или укомплектован приспособлением для бесшумной стрельбы, либо имеет магазин вместимостью более 10 патронов и т.д. Или отметить, что исследованное пневматическое оружие имеет дульную энергию более 7,5 Дж. Технические характеристики «неогнестрельного» оружия зарубежного производства далеко не всегда соответствует требованиям к оружию, разрешённому к обороту на территории РФ. Кроме того, в экспертной практике встречаются образцы промышленно изготовленного «неогнестрельного» оружия, прошедшего процедуру сертификации, но не отвечающие Криминалистическим требованиям. И автор не может не напомнить, что с 2022 года все модели ранее выпущенного списанного и многие модели сигнального оружия не соответствуют действующим Криминалистическим требованиям. Подводя результаты исследовании такого оружия, эксперт-баллист должен указать, что предоставленный на экспертизу объект промышленного изготовления не относится к огнестрельному оружию, предназначен для производства выстрелов сигнальными, газового, светозвукового либо травматического действия патронами, но по техническим характеристикам не соответствует действующим Криминалистическим требованиям к списанному, газовому, сигнальному или ограниченного поражения оружию. Относя исследуемые объекты к тем или иным криминалистическим категориям эксперт реализует тем самым принципы независимости и объективности исследования. А указывая на признаки, необходимые для юридической классификации объекта, обеспечивает его полноту и всесторонность. Решение же вопросов о том, какие правовые последствия имеет оборот этих объектов, и являются ли они предметами преступления, находится в исключительной компетенции органов расследования и суда. Как показывает опыт юридической классификации боеприпасов, предназначенные для поражения цели патроны, которые не отнесены к этой категории в заключениях судебно-баллистической экспертиз, на основании этих заключений в соответствии с положениями Постановлений Пленумов Верховного Суда безошибочно классифицируются как таковые самими правоприменителями. А если иногда и происходило иное, то это являлось не «экспертной», а «юридической» ошибкой.
Список источников: 1. Методика установления наименования патрона, определения оружия, для которого он предназначен, и пригодности патрона для производства выстрела. А. В. Кокин, А. С. Лихачев, И. С. Семушкин. ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции РФ. Москва, 2021. 2. Д. Корецкий. Криминальная арманология. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 3. Методики производства судебно-баллистических экспертиз. М. РСФЦСЭ при МЮ РФ, 1997, с. 34-35. Изменения во вторую часть методики по установлению наименования патрона и его принадлежности к боеприпасам // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 2 (10), с. 78-79. 4. Ю. Г. Корухов «Юридический анализ дискуссионной проблемы об отнесении патронов к боеприпасам (ст. 222 УК РФ)» // Теория и практика судебной экспертизы № 1 2007. Стр. 242-249. 5. М. А. Сонис «К вопросу определения принадлежности патрона к боеприпасам» // Теория и практика судебной экспертизы № 1 2007 год. Стр. 250-256 6. А. В. Кокин «О целесообразности продолжения дискуссии о боеприпасах в судебной экспертизе» // Вопросы экспертной практики № 5, 2019. Стр. 307-310. 7. Особенности криминалистического исследования огнестрельного оружия с внесёнными техническими изменениями, исключающими возможность производства выстрела, информационное письмо ЭКЦ МВД России, рег. № 37/6-11838 от 15.07.20021 г. 8. Методика установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию. Утверждена Федеральным межведомственным координационно-методическим советом по проблемам экспертных исследований и рекомендована для использования в экспертных учреждениях Российской Федерации (протокол № 8 от 29.02.2000 г.) 9. Обзор по наиболее актуальным проблемным вопросам в области исследования оружия и боеприпасов при производстве баллистических экспертиз и исследований, информационное письмо ЭКЦ МВД России, рег. № 37/6-16528 от 29.09.20021 г. 10. Словарь терминов, используемых в законодательстве Российской Федерации. - М.: Издание Государственной Думы, 2014. – 240 с. 11. Криминалистика. Краткая энциклопедия. Автор-составитель Р. С. Белкин. М. 1993 г. Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия». 12. Методика экспертного решения вопроса о принадлежности предмета к холодному оружию. Утверждена Федеральным межведомственным координационно-методическим советом по проблемам экспертных исследований и рекомендована для использования в экспертных учреждениях Российской Федерации (протокол № 5 от 18.11.1998 г.) 13. Андреев А. Г., Зайцев В. Ф. Криминалистическое исследование объектов при решении задач относимости к оружию и определение их исправности. Учебное пособие. Волгоград, 2005, Волгоградская академия МВД РФ.
[1] Постановление Пленума ВС СССР от 29.09.1974 № 7 «О судебной практике по делам о хищении огнестрельного оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, незаконном ношении, приобретении, изготовлении или сбыте оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ и небрежном хранении оружия». П. 3 // СПС КонсультантПлюс. [2] Постановление пленума ВС РФ от 25.06.1996 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». П. 3 // СПС КонсультантПлюс. [3] Постановление Пленума ВС РФ от 06.02.2007 г. № 28 «Об изменении и дополнении некоторых постановлений пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам». П. 3 // СПС КонсультантПлюс. [4] Уголовный Кодекс Российской Федерации. Ст. 222, примечание 3 // СПС КонсультантПлюс. [5] Федеральный закон Российской Федерации от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии». Ст. 1 // СПС КонсультантПлюс [6] Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему. Приложение к приказу МВД РФ от 07.06. 2022 г. № 403. П. 3.1 [7] В ответе было написано «дробовыми и другими маленькими патронами». Очевидно, что производитель оружия просто не понял, о чём его спрашивают «эти странные русские». [8] Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ // СПС КонсультантПлюс [9] Постановление пленума ВС РФ от 12.03.2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // СПС КонсультантПлюс. [10] Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС КонсультантПлюс. Комментарии (0)
Пока никто не оставил комментарий.
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
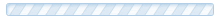
|
| Выполняется запрос |

